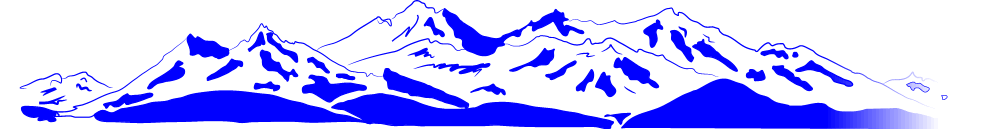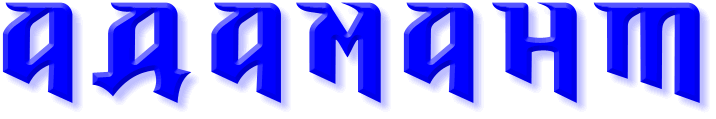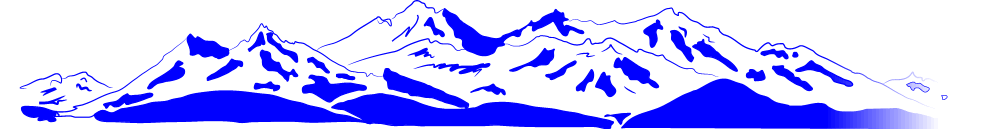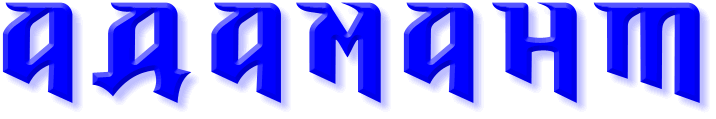|
Проблема определения поля «смертного» в культуре и человеке для Розанова была одной из краеугольных проблем бытия. В «смертном» он выделяет два бытийных плана – внешний и внутренний. Первый относится к внешнему фасаду цивилизации и её культуре, в котором формируется посреднический, вторичный опыт восприятия мира через общественные институты. Другой – внутренний план «смертного», отражение личной встречи человека с трансцендентным Богом на «страшном суде» собственной совести. Обе проекции в бытии связаны с угасанием жизни в форме, окостенением человеческого духа, при котором «иное» (область смерти, противоестественное) начинает культивироваться индивидом и приводит его к физическому и духовному уничтожению.
Иное развивается в человеке в результате отсутствия понимания мира, когда происходит распад смысла, и возникает пустота между личностью и миром, что ведёт к свёртыванию «Я» для мира и мира для «Я», к разрыву внешней и внутренней сути объектов реальности. Следствием становится утрата целостности и единства, исчезновение целеполагания в существовании человека. Сущность и явление оказываются в сознании несвязанными и обособленными друг от друга, при этом личный опыт постижения мира человеком уже невозможен [1].
В культуре область смертного отражается в исчезновении личностного измерения, в распаде форм искусства и творчества, а также в понимании сущности мира вне-опытным путем, то есть не через личный опыт, а систему образования, социальных институтов, общественной морали, методических установок. В этом процессе возникает вторичность восприятия, и представления о реальности формируется через посреднический опыт «другого» — неизвестного и абстрактного. Появляются разрывы бытийных тканей, система формального образования искусственно сужает горизонт жизни и свободу творчества человека. Постижение сущности культуры меняется на формальную передачу знаний о феноменах и артефактах созданных в процессе истории, без обращенности к живой душе и её экзистенции. Результатом становится кризис культуры, в поле которой исчезает личная, интимная область общения человека и мира. Без неё происходит искажение социального бытия культуры: феномены искусства уже не отвечают на запросы человеческого духа и становятся фетишами, догматы церкви монополизируют духовную сферу, превращая интимность внутреннего общения с Богом в формальную обрядность публичных молитв, а тотальное право государства довлеет над внутренней свободой человека и его гражданским долгом. В этой связи Розанов полагал, что причиной гибели культур и цивилизаций в истории является забвение человека в общественном бытии, равнодушие к его проблемам, а главное, не понимание особенностей его внутренней природы, становление которой происходит в уединённом, сокровенном диалоге с миром [2].
Но как построить диалог в ситуации упадка культуры, распада её классических форм выражения в искусстве, сфере познания, слове? Двадцатый век начался с поиска альтернативных путей развития творчества, с экспериментальных методов в работе с реальностью. Однако, стремление сохранить личное, индивидуальное измерение обернулось уходом творцов культуры в себя, в построение собственной реальности, производной и зависимой от их внутреннего мира. Субъективная доминанта культуры Серебряного века расчищала поле жизни в противостоянии смертному, но была ориентирована не на диалог с живым миром, таким, каков он есть, а на поиск отдельной личностью своего языка самовыражения. Собственный опыт построения художественной реальности, её эстетизация, создание своего стиля, мифа было самозащитой в условиях глобального развоплощения и утраты формы.
У Розанова это проявилось в уходе от логосной (смысловой) речи к его, вывороченному наизнанку, стилю дневниковых записей, отрывочных заметок, нарочито показывающих разрывы смысла, а также демонстрирующих метод разложения словесной материи на атомы отдельных слов. По признанию Д. В. Философова, «после Пушкина, Тургенева, Достоевского, когда, казалось, русский язык достиг предела своей яркости и богатства, Розанов нашёл его новые красоты, сделал его совсем иным, и при том без всякого усилия, без всякой заботы о стиле». В своих последних работах, в исповедальной прозе «Уединенного», «Смертного», «Опавших листьев», «Апокалипсиса наших дней», мыслитель пытается выйти на непосредственный, личный и глубоко интимный диалог с миром. Для него важно вслушаться в себя, в своё сознание, свои потаённые шорохи, страхи, настроения, невысказанные желания для опознания не своего места в бытии, а, наоборот, для обнаружения его в себе [3]. Отсюда бессвязность речи, а подчас и мистическое «нутряное бормотание», родственное сумеречному, «темному перво-ощущению мира» Павла Флоренского. Оно – это ощущение — «весь океан подсознательного и сверхсознательного, колышущийся за тонкою корою разума», оно — проявление глубинного тяготения к корням бытия, следствием чего становится открытие языка, который сочинить и придумать невозможно. «Нельзя дать какие бы то ни было правила его созидания – кроме одного: отрешиться ото всех правил и прислушаться к внутреннему прибою своей души,.. не говорить, а петь что поётся, что рвётся из переполненной груди всякий раз по-новому,.. всякий раз творя всё новое». Так происходит возвращение к языку мифа – «заумному вселенскому языку», к его нерасчлененному, дологосному слову, к первичной интуиции встречи человека и мира [4]. Розанов отпускает мысль на свободу, не препарируя её словом, тем самым, оставляя сокрытым смысл. Горизонт внешней стороны бытия сужается, ибо оказывается, что свободная мысль привязана не к всеобщим, абстрактным и умопостигаемым понятиям, а к существованию единичных вещей – целостных по форме и содержанию. Розанов доверяет первичной интуиции, и напряженное всматривание в ход жизни конкретной реальности, позволяет ему видеть сущность и корни бытийных процессов в ней происходящих. На страницах исповедальной прозы он не открывает свой личный мир, скорее, наоборот, в излишней говорливости и обнаженности своих настроений, пристрастий, суждений скрывается в бытийном потоке реальности. Недаром он утверждал, что человек должен хоть раз остаться «голеньким» перед миром один на один, испытав чувство тотального одиночества, заброшенности в бытии. Это своего рода момент его личной инициации обнаружения «иного», интимного Бога, обитающего в глубинах собственной личности. Бог, уединенный и заброшенный человеком, жаждет встречи. Подобная встреча основа индивидуальной религии понимания — вечного возвращения к самому себе и укоренения в бытии реального [5].
Внутренняя религия в традиции отечественного любомудрия восходит к исходному представлению о философии, понимаемому как любовь к мудрости, соответствующей образу Софии Премудрости Божией. В данном контексте на первое место выступает нравственно – эстетический аспект, а не формально – логический. Мудрость прекрасна, она достойна поклонения и любви. Мир земных форм — её вместилище, потому и отношение философа к процессу жизни должно быть утверждением конкретной онтологической сущности бытия в наличности собственного существования. В подобной системе человек обнаруживает что связан с миром тысячами нитей, видит мир, проникающим в себя и себя, входящим в мир. В этом сосредоточена магистральная линия, проходящая через всю русскую философию – идея целостности духа жизни и цельного знания о мире [6]. Цельное знание о мире включает в себя значимый аспект интеллектуального молчания, при котором доминантой познания становиться не аналитика бытийных процессов в выведении всеобщих понятий, а понимание и открытие бытия, заключенного в природе вещей. Встреча с бытием невыразима в слове, она происходит в молчании, заставляя человека напряженно вслушиваться, всматриваться в окружающие формы и вещи. При этом, потеря дара речи проявляет внутренний голос, индивидуальный язык общения с миром и рождает особый стиль философствования. Стиль отражает «житийность» - личный опыт существования в протяженности бытия, благодаря которому, мыслитель обретает свою точку опоры, определяющую его мировоззрение.
Точка опоры, свой взгляд на мир, позволяет создать поле личного противостояния всеобщим процессам энтропии, сосредоточенным в антиномичной природе человека, скрывающей, по мнению Розанова, не только корень жизни, но и корень смерти. В этом вопросе антитезой дореволюционной исповедальной прозы, становится его последнее произведение «Апокалипсис нашего времени». Если в предыдущих работах он открывает мир уединенной души в переживании отдельных оттенков бытия мимолетного, срывающего листья с древа познания, то в «Апокалипсисе» определяет сущность небытийных пустот, в которые проваливаются рассеянный народ, а также его рассыпанное царство и церковь [7].
В дореволюционной прозе Розанов по преимуществу использует глагольные формы языка, выражающие не сущность (о сущности он промолчал), а процесс отношения к явлениям бытия, по преимуществу с вопросительной интонацией. В «Апокалипсисе» своим синтаксисом многочисленных запятых, многоточий, в оборванных диалогах, мыслях он фиксирует окончательное исчезновение безжизненных и иллюзорных форм религии, государства в области «иного» — смерти. В вопросе «как мы умираем?», смерть обозначается провалом в «ничто», пустоту отрицания – нигилизм. Местоимение «я» меняется на «мы» в исследовании всеобщей смерти «былой России». Мыслитель выделяет объектные области бытия как верстовые столбы в бездне хаоса, выраженные в существительных и глагольных формах подзаголовков книги. И в гнетущей архитектонике текста, возникает неожиданно парадоксальный и примиряющий с бытием ответ, мы умираем по естественному, всеобщему закону жизни вечного Бога в нас. Потому как «иное» – не только проявленность распада форм и всеобщий хаос, она — неизбежный исток рождения нового смыслового содержания, в ней присутствуют не только разрушающие, но и созидательные силы. Это процесс естественного самообновления форм в бытии, в котором важную роль играет личность человека – творца, умеющего работать с пустотой, извлекать из неё новые горизонты развития.
На границе смертного, перед погружением в хаос, Розанову удалось увидеть в бездне истинного Бога, который исток и возвращение формы к иному бытию — существованию в духе. Страшный суд для России – это преодоление чар, иллюзий её исторического развития. Розанов, на протяжении своего творчества, в серии статей «Около церковных стен», в публицистике, исповедальной прозе, констатирует наличие двух Россий – России внешней (государственной) и Руси внутренней — сокровенной, спрятанной в русских монастырях, деревнях, народе. Первая Россия – презентабельная мировая держава, другая – тихая, незаметная. И в пространстве их существования рождается разное мироощущение, формируются два плана мировосприятия, и образуется пустота, провал в которую неизбежен. На протяжении всей истории русский человек существовал в полярности двух Россий и находился в состоянии не религиозного, а духовного двоеверия. Причем, чем выше был его уровень образования (по европейскому образцу внешней России), тем больше был разрыв с Русью сокровенной и шире пустота в нём [8].
Каждая Россия имела свою «русскую идею». Царская — притязание стать «третьим Римом» — мировым центром державности, Русь сокровенная исповедовала святость, поиск правды на земле. И тот, и другой идеалы, по мнению Розанова, были иллюзорны. Состояние русской культуры и цивилизации, мыслитель характеризовал как вечное ожидание невестой жениха. У внешней России – это особая любовь к иностранным образцам в политике, экономике, искусстве, философии; у внутренней – особая душевная привязанность к церковной, монастырской жизни, жалость к убогим, ожидание светлого заступника Христа [9]. Подобные иллюзии — исток самообманов, приводящих к убеждению, что иностранцы лгут, а святые врут. Через разочарования и постепенное накопление лжи, происходило сползание русского общества в пустоту, из которой, по мнению Розанова, стало возможно появление идеологических химер бунтов, революций, гражданских смут. Однако, двойственная природа русской апокалипсической бездны выражена в том, что, не смотря на гибель культурных форм государства и религии, только в ней возможен синтез двух Россий, скреплённый братской кровью. Момент наивысшего соединения в бездне и даёт импульс её преодоления. В ней происходит встреча с взыскующим Богом — «иным» по отношению к имманентной человеку реальности, но он (Бог) исток обновления и преображения человеческого духа.
Розанов ещё в конце 19 столетия в серии статей «Сумерки просвещения» утверждал: «Не в великих исторических движениях, где одно сменяется другим, не в широких массовых волнениях, не в переворотах, которые нас пугают и изумляют,- источник жизни новой, отличный от того, что мы узнали, поняли, возненавидели, презрели; её источник в тревогах личной, уединенной совести: где-нибудь в незаметном углу, иногда в попираемом человеке, зреет новое настроение, зажигается ещё не горевший свет, лучи которого не входят ни в какое сочетание с лучами прежнего гаснущего света. И когда только смрад исходит от источника прежнего света и в этом смраде задыхаются люди, одинокий, чистый, хотя и слабый свет привлекает их всех. Они идут сюда все – согреть около него душу, осветить разум, который совершенной тьмы никогда не может переносить… И новая эпоха настаёт, с другой верой, не прежней любовью» [10]. Этот своеобразный рецепт бессмертия культуры и человека Розанов подтвердил спустя четверть века на последней странице «Апокалипсиса», в совете юношеству.
В нём от исповеди, как двойственного процесса открытия-сокрытия себя в бытии, он переходит к проповеди – пробросу в будущее своего слова, голоса, звучащего из области Апокалипсиса: «Помни: Небо как и земля. И открытое Небу – открывается «в шепотах» и земле. В шепотах, сновидениях, предчувствиях. Поэтому никогда не лги, в совести-то, в главном – не лги… И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл. Работай над «круглым домом», и Бог не оставит тебя на небесах. Он не забудет птички, которая вьёт гнездо» [11]. В этом фрагменте присутствует проникновенный исповедальный стиль провозвестия «из глубины», через который Розанов призывает вернуться к искомой идентичности, к целостному бытию с Богом в преодолении небытийных пустот внешней и внутренней жизни. Пафос его слова, не смотря на синтаксические разрывы и смысловые провалы текста, восходит к последним вопросам человека к Богу и ответом на них. Подобная архитектоника текста соединяет ветхозаветные пророчества с традицией христианской исповеди, но при всей серьёзности, имеет форму рукописного дневника, отмеченного декадентским эстетством своей эпохи, самоиронией, авторской раздвоенностью.
Ссылки
1. В. В. Розанов. О понимании (Глава XVII «Учение о добре и зле»). СПб., 1994. С. 428-447.
2. В. В. Розанов. Сумерки просвещения. М., 1990. С. 4-91.
3. В. В. Розанов. Уединенное. М., 1990. С. 43, 46, 109, 159.
4. П. Флоренский. Христианство и культура. У водоразделов мысли. (Мысль и язык). М., 2001. С. 159-160.
5. В. В. Розанов. Уединенное. С. 175.
6. М. Н. Громов, Н. С. Козлов. Русская философская мысль X-XYII вв. МГУ, 1990. С. 24-25.
7. В. В. Розанов. Апокалипсис нашего времени. В кн.: В. В. Розанов. Уединенное. С. 391–440.
8. В. В. Розанов. Возле «русской идеи»… В кн.: В. В. Розанов. Сумерки просвещения. С. 346-363.
9. Там же.
10. В. В. Розанов. Сумерки просвещения. С. 132.
11. В. В. Розанов. Апокалипсис нашего времени. С. 440.
__________________________
Дата публикации 29.12.06
|